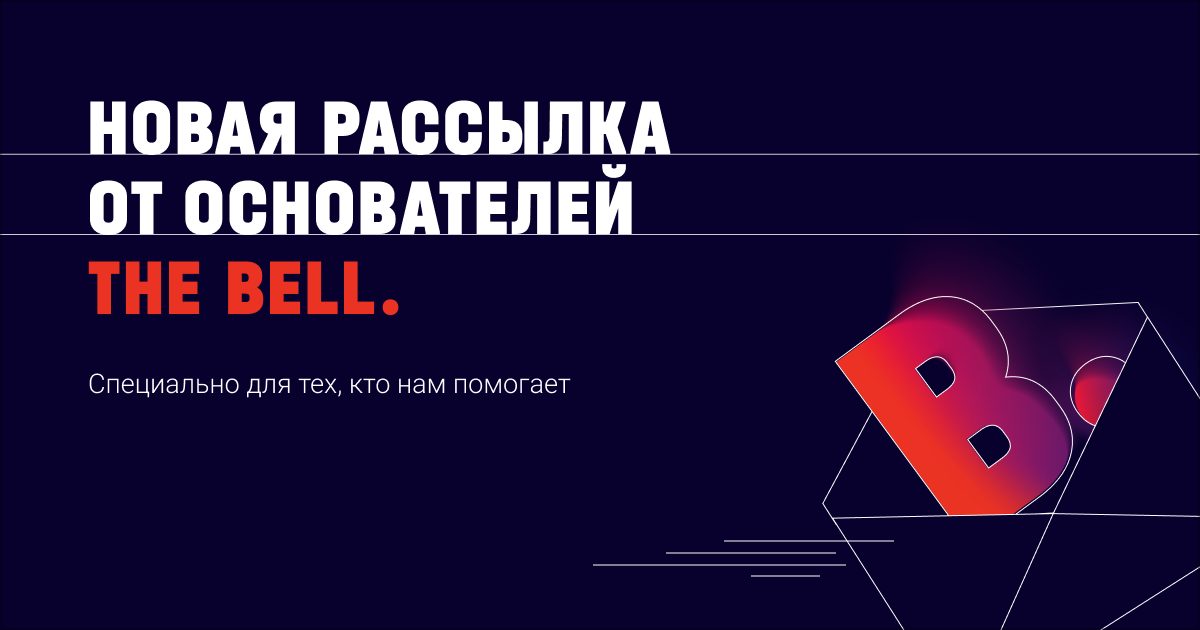
Как и другие деловые журналисты, я никогда не любил писать про политику (в широком, но в прямом смысле слова — борьбу профессиональных политиков за власть). Не потому, что это «грязное дело» — бизнес часто ничуть не лучше. А потому что в политической журналистике особенно трудно отличить пересказ слухов и провокационное вранье от истины. В работе делового журналиста такого, конечно, тоже полно. Но, во-первых, есть больше достоверных точек опоры — статистика, отчетность, объективные данные о ситуации на рынках. А во-вторых, люди в бизнесе отвечают за свои слова деньгами — и это все-таки снижает уровень информационного шума.
Когда в редакции начинается спор, писать или не писать о той или иной политической теме, я выступаю в роли скептика. Но к 20-м числам января, когда очереди на подпись за Бориса Надеждина стали мемом, а в его поддержку высказались даже соратники Алексея Навального, даже у меня не было никаких сомнений в том, что эта тема должна стать главной в нашей вечерней, а потом и еженедельной рассылке. Хотя в случае с Надеждиным у скепсиса был двойной коэффициент — ведь эта тема начиналась не просто как политическая, а как политтехнологическая. Нет сомнений в том, что под данным Надеждину разрешением собирать подписи (то есть вести легальную антивоенную кампанию) лежала какая-то задумка Кремля.
Что это была за задумка, гадать можно бесконечно. Самый простой вариант — Кремль выставляет заведомо проигрышного антивоенного кандидата, чтобы он набрал условные 0,5%, показав маргинальность этой повестки. Так, наверно, было на прошлых выборах с Ксенией Собчак (1,68% голосов). Можно предположить стратегию и посложнее — например, политолог Григорий Голосов придумал такую: Надеждин становится видным оппозиционным политиком, с помощью мягких репрессий его выдавливают за границу, а там он становится полезной для Кремля договороспособной фигурой в первых рядах оппозиции.
Но гадать о тайных планах Кремля в этом случае (как и почти в любом другом) бесполезно. Какая бы там ни была задумка, она очевидно стала жить своей собственной жизнью, как это бывает с политтехнологическими конструкциями. Кроме того, никто из тех, кто стоял в очередях, всерьез и не рассчитывал на то, что Кремль даст шанс на выборах антивоенному кандидату — Надеждин стал просто точкой сбора, вокруг которой объединились люди, у которых государство отняло возможность участвовать в политической жизни и выражать свою политическую позицию, не рискуя быть репрессированными.
Антивоенной и антипутинской части российского общества явно нужно какое-то лицо, вокруг которого можно было бы объединиться. Кто бы мог подумать, что им может оказаться видавший виды функционер СПС, — но Надеждин, в которого всерьез никто особо не верил и поэтому не боялся, стал достаточно компромиссной фигурой для того, чтобы его поддержали ненавидящие друг друга руководители ФБК и Максим Кац. Учитывая явный запрос, такие лица будут появляться и дальше — и, вероятнее всего, они не будут политиками (об этом разумно говорил Борис Акунин в недавнем интервью Лизе Осетинской).
И здесь мне кажется важной одна вещь. Один из главных факторов, позволивших Владимиру Путину построить в России диктатуру и начать страшную войну, — наш российский постсоветский цинизм, включающий в том числе предположение, что у людей и организаций всегда есть тайная корыстная мотивация, а поступки совершаются либо за деньги, либо по заданию, либо «для пиара». Критическое отношение к публичным людям — это, безусловно, хорошо. Но его логическим продолжением часто становится позиция выученной беспомощности: раз так, то и делать ничего не надо, какой смысл помогать «кремлевским мурзилкам». История с Надеждиным показывает, что смысл есть — спустя два года после начала войны люди, выступающие против нее, увидели, что они есть и их много. А это уже важно.


